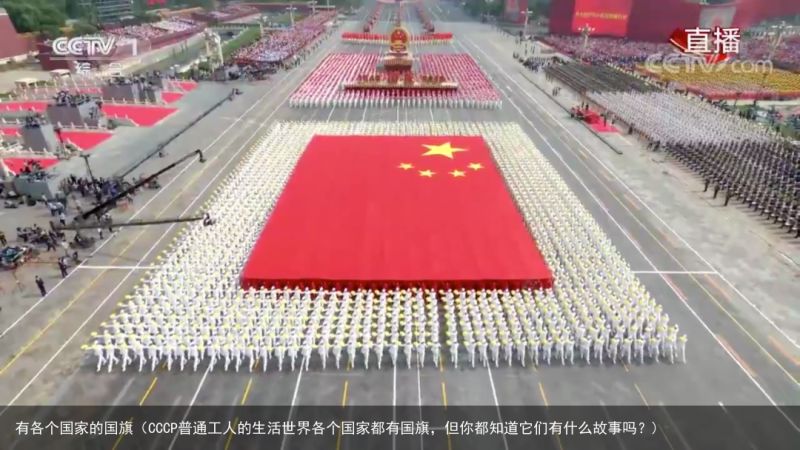俄罗斯人典型性格(俄国普通工人特质俄罗斯性格 (中俄对照))
Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.
Русский характер! Поди-ка опиши его… Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.
На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке — ядро. Разумеется,— у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете, и за границей побываешь, но русским званием — гордись…»
У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения…» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных…» — «Тьфу, бестолковый! — скажет третий,— Любовь — это когда в тебе все кипит, человек ходит вроде как пьяный…» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть… Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте,— очень, мол, хорошая девушка, и уже если сказала, что будет ждать,— дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге…
Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев:
— …Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает… Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперед,— кричит,— полный газ!..» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево… Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил — мимо… А товарищ лейтенант как даст ему в бок,— брызги! Как даст еще в башню,— он и хобот задрал… Как даст в третий,— у тигра изо всех щелей повалил дым,— пламя как рванется из него на сто метров вверх… Экипаж и полез через запасной люк… Ванька Лапшин из пулемета повел,— они и лежат, ногами дрыгаются… Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел… Фашисты кто куда… А — грязно, понимаешь,— другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал… Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей… А я еще — и проутюжил,— остальные руки вверх — и Гитлер капут…
Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре, на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта,— он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт… «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев, — Слышу, у него сердце стучит…»
Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.
— Бывает хуже,— сказал он,— с этим жить можно.
Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто щупал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк».— «Но вы же инвалид»,— сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.
На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел . Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать,— при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи… «Ох, знать бы,— каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка…» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью… Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».
У него так заколотилось сердце — привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций,— хриплый, глухой, неясный.
— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.
— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.
Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:
— Жив Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу
Егор Дремов сел на лавку у стола, на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя,— подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.
— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.
— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.
Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы,— бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку,— ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно — зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.
Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться,— встать, сказать: да признайте же вы меня, урода, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.
— Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя.— Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке,— они там и лежали,— и стоял чайник с отбитым носиком, он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином,— всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать.

Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.
Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.
— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?
— Народ осерчал,— ответил Егор Егорович,— через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу капут.
Марья Поликарповна спросила:
— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск,— к нам съездить на побывку. Три года его не видали, чай взрослый стал, с усами ходит… Эдак — каждый день — около смерти, чай и голос у него стал грубый?
— Да вот приедет — может, и не узнаете,— сказал лейтенант.
Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не признала,— думал,— неужто не признала? Мама, мама…»
Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.
— Ты блинки пшенные ешь? — спросила она.
Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и — босой — сел на лавку.
— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?
— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?
— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.
Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя — поцеловать бы эти теплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга,— свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая…
— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите…
Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти — сегодня же.
Мать напекла пшенных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах,— рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь,— но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?»
Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так,— пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати,— эту занозу он из сердца вырвет.
… Недели через две пришло от матери письмо:
«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя,— человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи,— кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это,— совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын — разве бы он не открылся… Чего ему скрываться, если это был бы он,— таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце — все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу,— он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня,— что было? Или уж вправду — с ума я свихнулась…»
Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума… Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».
Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш…» И так далее, и так далее — на четырех страницах мелким почерком, он бы и на двадцати страницах написал — было бы можно.
Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне,— прибегает солдат и — Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают…» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в себе,— все покашливает… Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу:
«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я — не видал.
Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке,— а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны, «Катя! — говорит он,— Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого…»

Красивая Катя ему отвечает,— а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить… Не отсылайте меня…»
Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.
俄罗斯性格 阿·托尔斯泰 (陈锌 译)
俄罗斯性格!对一个篇幅不长的故事来说,这个题目未免太大了。可又有什么办法呢?我正是想要和你们谈谈俄罗斯性格啊!
俄罗斯性格!你来写写看……讲英勇事迹吗?英勇事迹太多了,你都不知该挑哪件来讲才好。好在我的一个朋友对我讲了他个人生活中的一段小故事,帮了我的大忙。至于他是怎样打德国鬼子的,我在这里就不说了,虽然他不仅佩带着一枚金星,而且半边胸脯都挂满了勋章。他是一个老老实实、不声不响、平平凡凡的人,原是萨拉托夫州伏尔加河边一个村的集体农庄庄员。但是他体魄健壮,身材匀称,潇洒英俊,所以十分出众。每当他从坦克炮塔里钻出来的时候,简直就如战神一般,叫人越看越爱看!他从坦克跳到地面,把头盔从汗湿的卷发上摘下来,用破布擦着被弄脏了的脸,总是露出发自内心的友好微笑。
战场上,死神朝夕在身边转悠。一个人会变得更好一些,所有表面的枝节东西都会象晒掉的皮肤一样从他身上脱落下去,剩下来的是人的本性。自然,有些人的本性比较刚强,有些人的本性柔弱一点。但是,即使本性有缺陷的人也都努力向没有缺陷的人看齐,因为每个人都希望自己能够做一个忠实的好同志。不过我的朋友叶戈尔·德略莫夫在战前就已经是一个品行端正的人。他非常敬爱自己的母亲玛利娅·波莉卡尔波芙娜和自己的父亲叶戈尔·叶戈罗维奇。他说:“我的父亲是一个老成持重的人,他最主要的特点是非常自重。他对我说::‘孩子,你将来会看到很多大世面,也会出国,不过你时时刻刻都要为自己是个俄罗斯人而感到自豪……’”
他有一个未婚妻,也是伏尔加河边他那个村的人。我们有些人经常谈论老婆和未婚妻,特别是当前线战事稍停,天寒地冻,掩蔽壕里的小油灯冒着青烟,小炉子烧得噼啪发响,大家都吃完晚饭的时候。他们聊得那样神乎其神,叫你把耳朵都听得支了起来。比如,他们先从“什么叫爱情”谈起。一个人说:“爱情是在尊敬的基础上产生出来的……”第二个人说:“才不是哩! 爱情是一种习惯。一个人不仅爱老婆,也爱父母,甚至还爱动物……”第三个人接着说:“去你的吧!简直是乱弹琴!爱情,这就是说你浑身上下都热得象开了锅,走起路来就象喝多了酒那样飘飘然的……”议论就这样一连一两个小时地进行着,直到司务长出面,用权威性的口吻对这个问题的实质下个定义为止。叶戈尔·德略莫夫大概是不好意思谈论这类事情,所以只是随口对我提了一下他的未婚妻。他说,她是个好姑娘,既然已经答应过要等他,哪怕他缺了一条腿回去,这姑娘也不会变心的……
他也不喜欢谈论自己的成功。“谁愿意回想这些事情!”往往这样说完之后,他便皱着眉头抽起烟来。他那辆坦克的战斗事迹我们是从机组的其他人员那里听来的,驾驶员丘维略夫所讲的事让听的人特别惊叹佩服。
“知道吗?我们的队形刚散开,我一瞧,嗨,从小山包后面爬出一辆大家伙来了……我大叫一声:‘中尉同志,一只老虎!’他喊道:‘全速前进!’我立刻开着坦克在枞树林子里隐蔽前进,一会儿向左,一会儿向右……老虎象瞎子似的把炮筒乱瞄一气儿,开了一炮,没打中我们……这时中尉同志猛的给它侧面来了一炮……当时便铁片横飞!接着再照着它的炮塔来了一炮,它的炮筒一下子就撅了起来……挨了第三炮之后,老虎浑身上下的裂缝都冒出烟来了,火苗往上窜得有一百米高……老虎机组的鬼子从备用舱口往外爬,……万卡·拉普辛用机枪对着他们扫射……鬼子一个个都躺在地上蹬腿啦!……前进道路上的障碍已经扫除,我们五分钟之后便冲进了村子。在那里我肚子都笑疼了……法西斯匪徒东奔西逃。……别看地面上是一片烂泥,可你瞧,有个鬼子只穿着袜子没穿鞋就从屋里跳出来,撒丫子就跑。鬼子们全都往一个板棚跑去。中尉同志命令我:‘对着板棚冲!’我们把炮筒掉转过来之后,我便开足马力向板棚撞去……我的老天爷唷!房梁、木板、砖头、还有躲在板棚房顶下面的法西斯鬼子全都轰隆轰隆,噼啪噼啪地往坦克甲板上掉……我呀,还来回地碾了一遍,剩下来的鬼子全都举手投降,嘴里喊着:‘希特勒完蛋了!’。”
中尉就这样战斗到他出事为止。在库尔斯克战役中,当德国鬼子已经被打得落花流水、溃不成军的时候,他的坦克在小山岗上的一片麦地里中了弹,机组有两名战士当场牺牲。中了第二弹后,坦克着起火来。驾驶员丘维略夫一捧一捧地往他脸上、头上、衣服上洒土灭火,后来又拖着他爬过一个又一个弹坑到救护站去。丘维略夫后来说:“我当时为什么要拖着他走呢?因为我听见他的心还在跳哪……”
叶戈尔·德略莫夫活了下来,居然还没有变成瞎子,尽管他脸上烧得有些地方都露出了骨头。他在医院里躺了八个月,做了一次又一次整形手术,医生给他重新做了鼻子、嘴唇、眼睑和耳朵。八个月之后拆掉绷带的时候,他看见了自己这张已经完全不是原来样子的面孔。那个把一面小镜子递给他的护士,把身子转了过去,抽泣起来。他立即把镜子还给了她。
他说:“这还不算是最糟糕的事。就这副嘴脸也一样能活下去。”
不过他再也不向护士借镜子了,只是经常用手去抚摸自己的脸,好象是要逐渐习惯它。体格检查委员会认为他现在只宜于干非队列工作。为了这件事他去见将军,对将军说:“请您批准我回团归队。”将军回答说:“可你是个残废人呀!”“我绝不是个残废人,只不过是个丑八怪而已。这一点儿也不碍事,我的战斗能力是能够全部恢复的。”叶戈尔·德略莫夫发现将军在谈话时尽量不看他的脸;对此,德略莫夫只不过动了动淡紫色的,象一条直缝似的嘴唇苦笑了一下。他被批准休假二十天,为了彻底养好身体,他动身回家探望父母去了。这正好是那一年三月的事。
他本来想下了车之后在车站找一辆大车,但是没有找着,只好步行十八俄里。四面仍是厚厚的积雪,空气潮湿,周围阒无人迹。冰冷的风不停地吹开他军大衣的下摆,在他耳边孤独凄凉地呼啸。等他进得村来,已经是傍晚时分了。噢,这就是那眼井了。井台上高高的吊杆在晚风中微微摆动着,发出吱吱嘎嘎的响声。从这里数起,第六栋就是父母住的小房子了。他忽然停下脚步,把手插在大衣兜里,摇了摇头,转过身斜插着走到父母住的房子侧面,站在齐膝深的雪里弯下身子往窗里探望,看见了母亲;挂在桌子上方的油灯捻得很小,母亲正在暗淡的灯光下摆着晚饭,仍然披着原来那条深色披巾,不声不响,不慌不忙,温柔慈祥。母亲苍老了,瘦得两个肩头都耸了起来……“呵,如果早知道是这样,我就会每天写信把自己的情况告诉她老人家了,哪怕每天只写几个字哪……”饭桌上的东西很简单,只有一碗牛奶,一块面包,两把勺,一个盐罐。摆完之后,母亲把两只瘦削的手盘在胸前,站在桌子旁边沉思起来。叶戈尔·德略莫夫隔着窗子看着母亲,心里明白了:绝不能让母亲受凉,不能叫她苍老的面孔由于绝望而抽搐。
好了,就这样决定吧!他打开篱笆门进了院子,走上台阶敲起门来。母亲在门里应声问道:“是谁呀?”他回答说:“是苏联英雄格罗莫夫中尉。”
他的心剧烈地跳起来,使他不由得一肩头靠到了门框上。是呀,母亲并没有听出他的声音来,就连他自己也好象是头一回听到自己的声音。动了多次手术之后,他的嗓音变了,变得嘶哑不清了。
母亲问:“您有什么事吗?”
“玛利娅·波莉卡尔波芙娜的儿子德略莫夫上尉托我给他母亲捎口信问好来了。”
母亲立即打开门,扑到他跟前,握着他的双手问道:“我的叶戈尔活着吗?他身体好吗?您这位大哥请进屋去吧!”
叶戈尔·德略莫夫在桌子旁边的长凳上坐了下来,这就是他当年常坐的地方,那时他的一双小脚还够不着地板呢。当时妈妈经常一边抚摸他长着卷发的小脑袋瓜,一边对他说:“吃吧,小宝贝。”他开始对母亲讲她儿子的情况,也就是讲自己的情况,讲得很详细:讲得吃得怎样,喝得如何,什么也不缺,身体一直很好,总是快快活活;同时也讲了他和他那辆坦克参加过的战斗,但是讲得很简单。
“请您告诉我,打仗是不是挺可怕的?”母亲打断他的话这样问道,一面用那双黑黝黝的、此刻对他视而不见的眼睛直盯着他的脸。
“是的,老妈妈,当然是挺可怕的。不过我们已经习惯了。”
他的父亲叶戈尔·叶戈罗维奇回来了。父亲这几年也见老,显得憔悴了,胡子已经花白,仿佛上面洒了一层面粉似的。他对客人瞧了几眼,在门槛上跺了跺已经穿破了的毡靴,不慌不忙地解下围巾,脱掉短皮大衣,然后走到桌子跟前和客人握手问好。呵,这是他多么熟悉的手呵,这就是他小时候每当犯了错误父亲用来惩罚他的那只又宽又大的手啊!父亲什么也没有问便坐了下来,因为用不着问就能知道这个佩带着许多勋章的客人是干什么来的,老人家半闭着眼睛,也开始听着他讲的那些事。
德略莫夫上尉由于没有被父母认出来,所以坐的时间越长,把自己的事当成别人的事讲得越多,就越是没有办法把真相和盘托出,越是没有办法站出来说:爸爸、妈妈,你们把我这个丑八怪儿子认出来吧!……坐在父母的桌子前面,他既觉得幸福温暖,又感到委屈心酸。
“好了,咱们来吃晚饭吧!孩子他妈,给客人拿点吃的来。”叶戈尔·叶戈罗维奇打开了一个陈旧的小橱柜。从橱柜里散发出一股面包渣和葱皮的气味,橱柜的左角还放着装鱼钩的火柴盒,那些鱼钩原封未动;那把打掉了嘴的茶壶也仍然摆在老地方。叶戈尔·叶戈罗维奇拿出一个酒瓶来,里面盛的酒只够斟满两小杯。他叹了口气,因为再也找不出更多酒来了。他们就象当年那样坐下来吃晚饭,在吃饭的时候,德略莫夫上尉才发觉母亲特别留神地盯着他握勺的那只手。他苦笑一下,这时母亲抬起头来,脸上的肌肉痛苦地抽动着。
他们谈这谈那,谈到这一年春天会有什么样的天气,老百姓能不能把春播搞好,也讲到这一年夏天战争就会结束。
“您为什么认为战争在今天夏天就会结束呢,叶戈尔·叶戈罗维奇?”
叶戈尔·叶戈罗维奇回答说:“人民火了,他们已经闯过了鬼门关,现在任凭谁也挡不住他们了,德国鬼子要完蛋啦!”
玛利娅·波莉卡尔波芙娜问道:“你没告诉我们,什么时候会准他假回家来住几天。都有三年没见面了,他大概成了个大人,留起胡子来了吧?唉,就这样天天在阎王爷跟前打转转,大概连嗓音都变顸了,是吗?”
德略莫夫上尉回答说:“等他回家来,你们或许都认不出他了。”
父母在火坑上腾了一个地方给他睡。火坑上的每一块砖,木头墙的每一条缝,顶棚上的每一个树节疤他都记得一清二楚。这里有一股老羊皮和面包的气味——这种老家温暖舒适的气息他是到死也忘不了的。三月的风在房顶上呼呼地吹;在隔扇的那一边,父亲不时轻轻地打着鼾;母亲翻来覆去,唉声叹气,睡不着觉。上尉用双手捂着脸趴在那里,心里想道:“妈妈呀,我的妈妈呀!难道到这会儿你还认不出我来!难道你就认不出这是我?……”
第二天早上,他被劈柴在炉子里烧得噼噼啪啪的声音吵醒了。母亲正轻手轻脚地在炉子旁边忙乎着。他的包脚布已经洗干净晾在拉直的绳子上,刷洗过的靴子摆在门口旁边。
母亲问他:“你爱吃黍米面薄饼吗?”
他没有马上回答,从火坑上爬了下来,穿上军服上衣,拉紧皮带,光着脚在长凳上坐了下来。
“向您打听件事,安德烈·斯捷潘诺维奇·马雷舍夫的女儿卡佳·马雷舍娃是住在你们村吗?”
“她去年在训练班毕业了,现在就在我们村教书。你要见见她吗?”
“您的儿子托我一定给她捎个好。”
母亲打发邻居的小姑娘去把卡佳找来。上尉还没来得及穿好鞋,卡佳·马雷舍娃便跑着进来了。她那双灰色的眼睛睁得大大的,闪闪发光,两条眉毛惊喜地一抬一抬,面颊泛出喜悦的红晕。她把毛线打的头巾从头上往后一撂,头巾落到宽宽的肩膀上,这时上尉不禁在心中痛苦地叹息起来:“要是能亲一下她那头温馨浅色的秀发该有多好呵!”在他的想象之中,他的未婚妻就是现在这个样子的:鲜艳、温柔、快活、善良、美丽,所以她一走进来就把这个小房间照得满室生辉。
“您是替叶戈尔捎口信来问好的吗?(他背光站着,因为说不出话来,只好点了点头。)我日夜都在等着他,您就这样告诉他吧!……”
她走近德略莫夫,瞧了他一眼,吓了一跳,好象被人当胸轻轻击了一拳似的倒退了两步。就在这一瞬间他下定决心要走,而且当天就走。
母亲烤好了用牛奶和黍米面做的薄饼。他又谈起德略莫夫上尉的事来,这次是讲他的战斗事迹,把战斗的残酷情况讲得原原本本。同时也不抬头看卡佳,为的是不愿意见到自己这副丑相在卡佳那可爱的面容上引起的表情。叶戈尔·叶戈罗维奇本来张罗着要从集体农庄给他借匹马来,但他已经象来时一样步行着往车站去了。他被这一天一夜所发生的事情折磨得万分痛苦,几次停下来用双手打自己的脸,用嘶哑的声音反复地说:“我现在可怎么办?”
他回到了原来所在的团队。这个团当时正驻扎在大后方等待补充。战友们怀着由衷喜悦的心情迎接他归队,这就使他卸下了那个把他折磨得吃不下、睡不着、喘不过气来的精神包袱。他决定再把母亲瞒一段时间,仍然不让老人家知道他的不幸。至于卡佳,他决定要咬牙把这个心上人彻底忘掉。
大概过了两个星期,母亲来了一封信:
“你好,我最最亲爱的儿子。我真怕给你写这封信,因为我不知道该怎么去想才是。有一个人从你那儿到咱家来过,这个人好极了,就是脸太丑。他本来打算要住几天的,可不知为什么收拾起东西说走就走了。打那以后,我的儿呀,我就一宿一宿的睡不着觉,总觉得那是你回来过。你爹为了这个尽骂我,他说:‘你这个老婆子发疯了吧,要是这个人是咱们的孩子,难道他不会明说吗?……他干嘛要瞒着呢?如果他的脸变得和来过咱家的这个人那样,咱们该感到自豪才对。’你爹老是想要把我说服,可是我这颗做娘的心呀,却还是一个劲地认准了:这是我儿,他回家来过……这个人在火坑上睡觉的时候,我便把他的军大衣拿到院子去刷刷干净,我一下子就扑在大衣上哭了起来——这是我儿,是我儿的大衣! ……小叶戈尔呀,你给我写封信来,看在耶酥基督的面上,你开导开导我,告诉我究竟是怎么一回事。莫非我真是疯了不成?……”
叶戈尔·德略莫夫把这封信给我——伊凡·苏达列夫看了。他用袖子擦了一下眼睛,对我讲了事情的经过。我对他说:“你瞧瞧,我说你们的性格都碰到一块顶起牛来了。傻瓜呀,你这个傻瓜!快给你母亲写封信请罪吧!别把她折腾疯了……她就那么稀罕你的脸蛋子了?!因为你的脸变成了现在这个样子,她还会更疼你哩!”
他当天就写了这样一封信:“亲爱的双亲——玛利娅·波莉卡尔波芙娜和叶戈尔·叶戈罗维奇:请原谅我糊涂不懂事,回过咱家的那个人确实是我——你们的儿子……”等等、等等,密密麻麻地写了四页纸。如果有可能的话,他真会写出二十页来。
过了几天,我和德略莫夫正站在靶场里,一个士兵跑来对他说:“大尉同志,有人找您。”这个士兵虽然站得规规矩矩,可是脸上那副表情好象打算去喝二两庆祝什么喜事似的。我们动身回镇上去,当走近我和他合住的房子时,我看见他六神无主,无缘无故地一个劲儿地清嗓子……我想:“坦克手呀,你这个坦克手,怎么还会这样紧张!”我们走进屋去,他走在我的前面。我听见他说了一声:“妈妈,你好哇!这是我呀!……”于是我看到一个瘦小的老太太扑上去紧贴在他的胸前。我回头一看,原来屋里还有一个女的。说句良心话,美人在别的地方也是有的,因为在长得美的人当中,这个姑娘绝不是独一份,不过我本人反正还没见过比她更美的人就是了。
他撇下母亲走到姑娘面前(我在上面已经提到过,他身材魁伟,如战神一般),对姑娘说:“卡佳,你到这里来干嘛?你答应等的是过去的我,不是今天的我。”
美丽的卡佳答话了,我虽然已经退出屋子到了穿堂,但还是听到了她所说的话:“叶戈尔,我决定要和你过一辈子,我要忠实地爱你,非常非常爱你……你别把我打发走吧……”
是的,你们看看这几个人,他们所代表的就是俄罗斯性格!一个人看样子似乎普普通通,平平凡凡,但是一旦严重的灾难临头,在他身上就会产生出一种伟大的力量,这种伟大的力量就是人性的美。